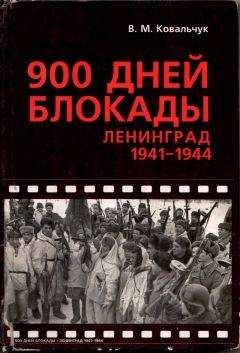что мы без одежды. Как можно опознать человека по плавкам, мне в голову не приходило. Внизу вода казалась густой и плотной, словно деготь, по рукам бежали прозрачные пузырьки, и волны мерно поднимали и опускали нас — Лариса впереди, мы за ней.
Потом Лариса раздумала тонуть и повернула назад, к едва видным фонарям на набережной. Там пахло дымом шашлыка, на берегу лежал невменяемый Леша, Сергей шевелился возле стула. Затем мы пошли на раскопку, к кострищу, там никого не было, все уже спали. Мы поленились разжигать костер и сидели при свете зажигалок, они закончились через полчаса. Лариса выпила еще вина и свалилась без чувств. Мы с Андреем понесли ее домой на руках. Сначала несли по очереди, потом решили, что удобнее тащить за руки за ноги, но перед домом она вывернулась и в относительно приличном виде зашла, качаясь, под фонарь, который горел у нашей крыши всю короткую ночь.
Наутро Лариса, которая, видимо, не хотела оставаться с Андреем наедине, уговорила меня переехать из лагеря во флигель (там была свободная кровать), и я перенес вещи. Днем мы с Андреем пошли за помидорами, напились портвейна из железной бочки на рынке, а потом слушали песни Непомнящего: Андрей привез с собой магнитофон, а я взял у Леши кассету. Вечером я пошел отмечать «отвал» — отъезд нашей бригады. В этот раз пил пиво, поэтому домой вернулся трезвый, довольно поздно — думал, надо дать Андрею и Ларисе побыть вдвоем. Андрей лежал в темноте, на кровати — один. «Ларису увезли в больницу, у нее страшное заболевание, у нас тоже, мы заболеем завтра утром», — сказал он мне. Я решил не выяснять подробности и лег спать.
Утром шел мерный редкий дождь. Андрей рассказал мне, что Ларисе стало плохо, ее рвало желчью, он вызвал «Скорую» и поехал с ней в Евпаторию. Там заплатил за сутки лечения и остался на больничном дворе в час ночи. Обратно отвезти его — за два доллара — он попросил «Скорую помощь», доставившую Ларису. По дороге врач сказал ему: «Знаешь, что с тобой может утром быть то же самое, что с твоей подругой?» — и продал ему две таблетки без названия — тоже за два доллара. В итоге сумма дороги и таблеток составила четыре доллара, врач отдал один доллар сдачи с пятерки Андрея. Купюра оказалась старой и помятой, мы с трудом сбыли ее с рук. Пришлось отдать ниже курса.
Мы завтракали, настроение было паршивое. Я думал, что с Ларисой ничего страшного, скорее всего, перепой, но она мне тоже нравилась, и в голову лезли разные мысли…
Вспоминалось, как меня в одиннадцать лет случайно положили в Морозовскую больницу, потому что у меня болело горло, я не мог глотать. Незадолго до этого я приехал из Азербайджана, где отдыхал с мамой. Там я впервые осознал, что умру: стоял на балконе гостиницы, смотрел на плакат с изображением Ленина, на набережную, кафе внизу и понял — меня не будет. Ту ночь в Баку я почти не спал, а когда у меня заболело горло в Москве, испугался, что умру, и мама повезла меня в больницу, где мне поставили ошибочный диагноз и продержали три недели. В детском психоневрологическом отделении я лежал вместе с мальчиком, укушенным мышкой, монголом, у которого автобус снес полчерепа — на макушку пересадили кожу с колена, он был похож на католического монаха с тонзурой. А еще был утонувший мальчик — то есть его спасли, но поздно: произошли необратимые изменения в мозге, он впадал в истерику, рвал туалетную бумагу и пытался пронести в палату кошек с улицы. Еще запомнился юноша в гимнастерке, больной эпилепсией, и худенькая девочка из соседнего отделения — очень «тяжелая». И желтели больничные окошки — скрипучие калитки на тот свет.
…В общем, лезли всякие мысли, в голове крутилась песня Непомнящего «Стикс» — «Больше некуда бежать. Умывальник. Пьяной сеточкой кровать». Мы ехали на такси в Евпаторию, было душно, продолжал идти дождь. В регистратуре нам выставили счет в сто тысяч купонов (тогдашняя украинская валюта) за лечение Ларисы и потребовали столько же за его продолжение. В палату не пустили. Мы решили взобраться по дереву, чтобы залезть в окно палаты и освободить Ларису силой. Но тут ее спустили вниз на лифте — румяную и не умирающую. Она сказала, что чувствует себя нормально, мы сразу отправились обратно. Потом пошли в кафе обедать. После харчо Лариса побледнела и сказала, что ее тошнит. Они с Андреем ушли, я остался один, пил чай, дождь моросил по сухой траве крымского августа, над головой звенели и бежали куда-то провода — на них сидели птицы. В конце концов мне пришлось отдать свой билет захандрившей Ларисе и отправить ее домой с нашей бригадой. Когда она приехала в Москву, мама Андрея спросила ее: «Ты хоть задницу солнцу успела показать?» — она была простая женщина.
Синий автобус опоздал.
И Иван Карамазов сошел с ума.
А. Непомнящий. «Экстремизм»
Эта история началась с красных кед, то есть началась она не совсем с этого, а с финала другой истории. Мы с Андреем, проводив Ларису в Москву, возвращались в Заозерное пешком и говорили о том, как спокойно мы теперь будем жить, плавать, не пить (ну немного, может быть, бутылку вина за обедом). Мы шли по берегу моря мимо водокачки, старых лодок на причале, вдоль санаториев, цветников, фотографировались. В общем, не спешили. А потом пришли в наш флигель, увидели у порога красные кеды и поняли — никакого покоя не будет.
Кеды принадлежали Василию — другу Леши, который несколько дней назад приехал из Москвы на раскопку, но уже успел отличиться: его выгнал руководитель экспедиции за пьянство и раздолбайство. Вася был этническим немцем — тем, у кого предки с Поволжья или вроде того, по-немецки он ничего не знал, зато в свое время состоял в обществе «Память» и обладал нордической внешностью. В трезвом виде Вася был рассудителен и скептичен, спьяну становился агрессивным и выкрикивал разные слоганы: Вася слушал «Коррозию металла» и заимствовал что-то у них, очень любил вопить «Крейзи!» и делать при этом страшное лицо. В Москве мы были немного знакомы, поэтому, когда его выгнали из лагеря, он пришел к нам, благо третья койка освободилась.
Отмечание приезда перешло в загул и продолжалось три дня. В один из них мы сидели вечером с Андреем возле какого-то пансионата и
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](https://cdn.my-library.info/books/397705/397705.jpg)